| к содержанию | вперед >> | в конец >| | |||||
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
К коллегам-журналистам и писателям, работающим на телевидении, я, конечно, питаю глубокое уважение. Именно поэтому я никогда не пытался отбирать у них хлеб, несмотря на многочисленные предложения. По-моему, слова - сырьё нашей работы - могут обладать разным удельным весом и разной способностью воздействия, в зависимости от того, доверяем ли мы их «вещественности» печатной страницы или же «нематериальности» электронных сигналов. Так или иначе, каждый из нас - заложник собственной биографии; лично я (если это имеет какое-то значение) знаком только с редакциями газет и издательств, а телевизионная сценография, камеры, блеск юпитеров остаются за пределами моего опыта. Должен успокоить читателя: я не намерен углубляться в эти рассуждения, тем более - вступать в дискуссии «массмедиологов», и не хочу мучить никого пространными автобиографическими отступлениями. Сказанного выше достаточно, чтобы читатели представили себе, как я удивился (а может, и слегка обеспокоился), когда в конце мая 1993 года услышал один телефонный звонок.
Обычно по утрам, спускаясь в свой кабинет, я повторял в душе слова Цицерона: «Si apud bibliothecam hortulum habes, nihil deerit» («Чего же тебе ещё не хватает, если у тебя есть библиотека и садик возле неё?»). Это было время особенно интенсивной работы: я закончил корректуру одной книги и занимался отделкой другой. Одновременно я продолжал текущее сотрудничество с журналами.
Итак, недостатка в обязательствах у меня не было; не было недостатка и в подобающей благодарности Тому, Кто давал мне возможность их выполнять, - день за днём, в тиши и уединении этого кабинета, на берегу озера Гарда, вдали от всяких влиятельных салонов - политических, культурных, да и религиозных. Не потому ли, что сам Жак Маритэн - человек, стоящий вне всяких подозрений, сердечный друг Павла VI - полушутя-полусерьёзно рекомендовал тем, кто хочет сохранить любовь к католичеству, а может быть, даже защитить его, соблюдать умеренность и сдержанность в своём общении с «околоцерковными кругами» ? Итак, в тот весенний день в тишине моего убежища нежданно грянул телефонный звонок. Звонил генеральный директор RAI - Итальянского радио и телевидения. Хотя он знал мою нелюбовь к выступлениям в телевизионных программах, поскольку раньше я уже отказывался от участия в них, он хотел предупредить меня, что скоро я получу некое предложение. И заметил: «На этот раз вы не сможете отказаться». Действительно, в последующие дни состоялось ещё несколько телефонных разговоров с Римом. Ситуация постепенно приобретала конкретные - и несколько тревожные - очертания. В октябре 1993 года исполнялась пятнадцатая годовщина понтификата Иоанна Павла II. Святой Отец принял предложение RAI дать по этому случаю телевизионное интервью. Это должно было стать беспрецедентным событием в истории папства, которая за минувшие столетия видывала всякое. Всякое - но никогда ещё Преемник Петра не усаживался перед телевизионными камерами, чтобы целый час выдерживать перекрёстный огонь журналистских вопросов, да к тому же при полной свободе интервьюеров.
Интервью должны были впервые передавать по основным каналам итальянского телевидения вечером того самого дня, на который падала пятнадцатая годовщина понтификата, и сразу после этого - все крупнейшие телевизионные компании мира. Меня уведомили, что интервью решили доверить автору этих строк, поскольку yке много лет я писал книги и статьи на религиозные темы - писал со свободой человека светского, но с позиций христианина, осознающего, что Церковь вверена не только духовенству, но и всем принявшим крещение, хотя каждый призван исполнять в ней собственные задачи на собственном месте. В частности, не остались без внимания оживлённая дискуссия вокруг Доклада о состоянии веры, резонанс, вызванный этой духовной книгой, и то позитивное влияние, которое она оказала на Церковь благодаря её массовым изданиям на многих языках. Я опубликовал её в 1985 году, изложив в ней беседы, которые в течение нескольких дней вёл с ближайшим советником Папы по богословию кард. Йозефом Ратцингером, префектом бывшего Sanctum Officium, а ныне Конгрегации вероучения. Это интервью тоже оказалось новшеством, беспрецедентным в истории Конгрегации, чья приверженность к молчанию и секретности породила немало легенд (порою - «чёрных», антиклерикальных) .
Возвращаясь к 1993 году, добавлю только, что, готовясь к интервью (весьма сдержанно, чтобы слухи о нём не дошли до журналистов), я встретился с Иоанном Павлом II в Кастель Гандольфо. Во время этой встречи я имел возможность объяснить - с надлежащим почтением, но и с решительностью, которая, может быть, обеспокоила кое-кого из присутствующих (но не хозяина дома, открыто выразившего признательность за сыновнюю искренность), - какими намерениями я собираюсь руководствоваться, готовя первый вариант вопросов. Б ответ услышал я только одно: «Действуйте!».
НЕПРЕДВИДЕННЫЙ СЛУЧАЙ
Однако Папа недооценил огромного количества дел, запланированных для него на сентябрь - месяц, когда истекал последний срок записи интервью и передачи его телевизионным техникам, чтобы у них было необходимое время обработать материал перед трансляцией. Уже позже я узнал, что расписание Папы на этот месяц занимало целых 36 страниц компьютерной распечатки. Оно включало самые разнообразные и неотложные дела, каждое из которых требовало тщательной подготовки: достаточно назвать, помимо прочего, посещение двух итальянских диоцезов (Ареццо и Асти), первый визит в Апостольскую Столицу императора Японии, а также первую поездку Папы на территорию бывшего Советского Союза - в Литву, Латвию и Эстонию. (Последнее повлекло за собой необходимость хотя бы бегло ознакомиться с непростыми языками этих стран; Папа видит свою обязанность и пастырскую задачу в том, чтобы все народы мира могли понять его проповедь Евангелия). В результате оказалось, что с учётом этих двух «премьер» - японской и балтийской - добавить к ним ещё и третью, телевизионную, невозможно. Тем более что Иоанн Павел II, по своему великодушию, обещал записать интервью на целых четыре часа, чтобы режиссёр (известный и признанный Пупи Авати) смог выбрать лучшие его фрагменты для часовой телевизионной передачи. Полный текст интервью решили опубликовать отдельной книгой, осуществляя таким образом пастырские и вероучительные намерения, побудившие Папу принять проект. Однако множество дел, о которых шла речь выше, помешало ему осуществить задуманное.
Что до меня, то я вернулся на любимое Катуллом и Вергилием озеро: размышлять - как обычно - над теми самыми проблемами, о которых должен был беседовать с Папой, но уже в тиши своего кабинета. Ведь сказал же Паскаль, глядящий с портрета на столе, за которым я работаю: «Все беды людские происходят оттого, что люди не умеют спокойно сидеть в собственной комнате».
В предприятие, о котором тут идёт речь, я был вовлечён не по своей инициативе, и уж никак нельзя его назвать «бедой»! Не скрою, однако, что оно поставило меня в несколько затруднительное положение. Прежде всего я, человек верующий, задавал себе вопрос: уместно ли, чтобы Папа давал интервью, да ещё телевизионные? Не подвергается ли он риску (не зависящему, конечно, от его великодушных намерений, но неизбежно вытекающему из жёстких законов масс-медиа), что голос его заглушат хаотические шумы мира, который всё превращает в банальное шоу, полное взаимоисключающих суждений и бесконечной болтовни? Уместно ли, чтобы сам Верховный Первосвященник Римской Церкви приспосабливался к стилю беседы с журналистом, говоря «по-моему» и отказываясь от торжественного «Мы», в котором звучит тысячелетняя тайна Церкви?
Вопросы эти я задавал не только себе, но - с надлежащей почтительностью - и другим. Кроме таких «принципиальных» проблем меня тревожило, что, хотя я много лет работаю в области религиозной информации, компетенции моей недостаточно. Ведь на телевидении я не работал, а уж тем более - в ситуации,предъявляющей к журналисту самые высокие требования, какие только можно себе представить. Однако и здесь на мои доводы нашлись возражения.
Так или иначе, операция «Пятнадцатилетие понтификата на телевидении» не состоялась и можно было ожидать, что раз уж юбилейная дата миновала, о ней не будут вспоминать. Поэтому я опять мог стучать на своей пишущей машинке и следить с должным вниманием за высказываниями Римского епископа, как и раньше, - просто читая Acta Apostolicae Sedis (сборники документов Апостольского Престола).
СЮРПРИЗ
Прошло несколько месяцев. В один прекрасный день, так же неожиданно, как и прежде, мне опять позвонили из Ватикана. Моим собеседником был директор Пресс-бюро Апостольской Столицы - энергичный и обаятельный испанский психиатр, ставший журналистом, Хоакин Наварро-Вальс, один из самых убеждённых сторонников интервью. Наварро собирался передать мне известие, которое, как он заверил меня, было неожиданным и для него самого. Итак, Папа просил передать мне: «Хотя я не имел возможности ответить Вам лично, я не забыл о Ваших вопросах. Они заинтересовали меня и, я , не должны пропасть зря. Поэтому я размышляю над ними и уже некоторое время, насколько позволяют мне мои дела, письменно отвечаю на них. Вы задали мне эти вопросы, следовательно, имеете право некоторым образом рассчитывать на ответы... Я подготовлю их и передам Вам. Потом действуйте по собственному усмотрению».
Одним словом, Иоанн Павел II в очередной раз подтвердил меткость определения: «Непредсказуемый Папа», сопутствующего ему со дня избрания, которое само по себе было непредсказуемым. Так и случилось: в какой-то из дней в конце апреля 1994-го (года, когда я пишу эти строки) ко мне домой приехал Наварро-Вальс и привёз в портфеле большой белый конверт. В нём лежал ранее обещанный текст, написанный собственноручно Папой. О заинтересованности, с которой он писал эти страницы, свидетельствуют подчёркнутые его пером многочисленные фрагменты текста; читатель увидит их набранными курсивом, согласно замыслу автора. Сохранены и пробелы между отдельными абзацами. Название книги предложил сам Иоанн Павел II. На маленьком листке было написано, что это - возможный вариант и редактор вправе изменить его по своему усмотрению. Я решил сохранить название потому, что оно полнее всего отражает самую суть послания Папы, обращённого к современному человеку. Ясно, что в порученной мне редакторской работе мною руководило должное уважение к такого рода текстам, где значимо каждое слово. Моё вмешательство ограничилось следующим: я добавил в скобках перевод латинских выражений; внёс отдельные поправки в пунктуацию, иногда не слишком точную; добавил имена некоторых людей (например: Ив Конгар, там где Папа написал для краткости Конгар); подобрал синонимы в тех фразах, где одно слово повторялось дважды; исправил несколько неточностей в переводе с польского. Словом, правка касалась мелочей, которые ни в малейшей степени не затрагивали содержания.
Была у меня и более существенная работа - я вводил дополнительные вопросы там, где этого требовал текст. Первоначальный список вопросов, над которым Иоанн Павел II работал с поразительным усердием, ни одного не пропуская (сам факт такого уважения к скромному журналисту представляется ещё одним доказательством - если бы его кто-нибудь потребовал - смирения Папы, его великодушной готовности вслушиваться в голоса рядовых христиан «с улицы»), - итак, этот список содержал двадцать вопросов.
Ни один из них, скажу ещё раз, не был мне кем-то предложен. Ни один из них не был отвергнут или «откорректирован» .
Их было, безусловно, слишком много, они слишком пространны, что не соответствует требованиям телевизионного интервью, даже самого обстоятельного. Отвечая на них письменно, Папа имел возможность высказываться более развёрнуто и по ходу своих ответов поднимать новые проблемы. Те, в свою очередь, нуждались в дополнительных, соответственно сформулированных вопросах. Приведу здесь один только пример: проблеме молодого поколения не нашлось места в первоначальном варианте, а теперь Папа, подтверждая свою особую к нему привязанность, посвятил ему прекрасные страницы, где оживает опыт молодого пастыря на его любимой родине. Так или иначе, обработанный таким образом текст был просмотрен и одобрен автором в той версии, которая здесь опубликована; она же послужила основой для перевода на наиболее распространённые языки мира. Следует подчеркнуть: читатель может быть уверен, что голос, звучащий здесь - столь человечный и вместе с тем авторитетный, - это целиком и полностью голос Преемника Петра. Итак, уместно говорить не столько об интервью, сколько о книге, написанной Папой, пусть и в ответ на вопросы. Богословам и исследователям папского учительства предстоит подумать о том, как определить этот текст, беспрецедентный и открывающий новые перспективы для Церкви. Ещё одно замечание о редактировании текста: кое-кто советовал мне активней вмешаться в него, дополнив комментариями, примечаниями, пояснениями, цитатами из энциклик, документов, выступлений. Я же старался соблюсти максимум деликатности, ограничившись этим вступлением от редактора, которое призвано лишь объяснить, как «причудливо» развивались события, несмотря на всю их простоту. Я не хотел ненужным вмешательством умалить необычную новизну, поразительное напряжение и богословское богатство этих страниц - страниц, которые, я уверен, говорят сами за себя. Исключительно «религиозные», они станут очередным и неоценимым свидетельством, облечённым в форму интервью, что Преемник Петра - учитель веры, апостол Евангелия, отец и брат всем людям. Одни лишь христиане-католики видят в нём Викария Христова, но его свидетельство об истине, его служение, исполненное любви, сейчас, как и прежде, доходят до каждого человека, подтверждают несомненный авторитет, который заслужил Апостольский Престол в международном сообществе. В каждой стране, обретающей свободу или независимость, одним из первых актов суверенного государства является решение направить своего представителя в Рим, «аd Petri Sedem» (к Престолу Петра). И продиктовано это не политическими соображениями, а необходимостью подтвердить некую «духовную правомочность», т.е. своего рода нравственной потребностью.
ВОПРОС ВЕРЫ
Думая о том, как составить серию вопросов - в чём мне была предоставлена полная свобода, - я сразу решил отбросить все политические, социологические, а также «клерикальные» темы, проблемы «церковной бюрократии», составляющие почти сто процентов «религиозной информации» (или дезинформации), которую распространяют многие, и не только светские, масс-медиа.
Позволю себе привести здесь отрывок из рабочей записки, которую я предложил тому, кто поручил мне подготовить беседу: «Нельзя понапрасну тратить время, которое предоставляет этот поистине исключительный случай, на обычные вопросы «ватиканологов». Важнее, куда важнее Ватикана, государства необычного, но всё же одного из многих; важнее привычных размышлений - не лишённых смысла, но второстепенных, а порой и уводящих по ложному следу - о церковных учреждениях; важнее спорных вопросов морали, важнее всего этого - вера. Её непреложные истины и её неясности; кризис, который ей, вроде бы, угрожает; сама возможность её сегодня, в цивилизации, где мысль о том, что есть не только мнения, но ешё и Истина с прописной буквы, считается фанатичной и нетерпимой. Одним словом, надо воспользоваться случаем, который даёт нам Святой Отец, чтобы затронуть проблему «корней», основы, на которую опирается всё прочее, а её отбрасывают на второй план, часто даже внутри Церкви, словно мы не хотим или не можем открыто о ней говорить». Дальше в той же записке я писал: «Вкратце, если мне позволят, об этом можно сказать так: нас не интересует сугубо клерикальная (ведь есть клерикальная разновидность «светскости») проблема, какие в Ватикане комнаты: классические («консерваторы») или современные («прогрессисты»). Мы не станем, как хотели бы многие, низводить Папу до президента некоего всемирного агентства по делам этики, или мира, или защиты окружающей среды; не станем превращать Папу в выразителя конформизма, модного в нынешнем сезоне. Мы хотим исследовать, существует ли всё ещё прочный фундамент, на котором стоит Церковь, ибо она сохраняет своё значение и правомочность лишь при том условии, что опирается на непреложность Воскресения Христова. Поэтому уже в самом начале разговора следовало бы направить внимание на загадочного «возмутителя». Папа кажется именно таким: он не просто один из великих мира сего, а единственный человек, который в глазах других людей прямо связан с Богом, он «заместитель» Самого Христа, Второго Липа Святой Троицы».
Записка оканчивалась так: «О священстве женщин, о пастырском отношении к гомосексуалистам или разведённым супругам, о ватиканской геополитической стратегии, об общественно-политических взглядах верующих, об экологии и многом другом можно и даже нужно дискутировать, причём - широко. Однако сначала надо установить правильную иерархию вещей (часто перевёрнутую с ног на голову, даже в католических кругах), которая выдвигает на первый план вопрос прямой и радикальный: «правда» или «неправда» то, во что верят католики и высшим гарантом чего считается Папа? Можно ли всё ещё принимать буквально христианское «Верую», или следует поскорее отодвинуть его на второй план как древнюю, хотя и благородную традицию, как некую социально-политическую ориентацию или школу мышления, а вовсе не как непреложную веру в вечную жизнь? Дискуссии о морали (от применения презервативов до легализации эвтаназии), которых не предваряли бы размышления о вере и её истинности, не имеют смысла, хуже того - уводят в ложном направлении. Если Иисус не Мессия, предсказанный пророками, то какое значение для нас может иметь христианство со своими этическими требованиями? Зачем нам знать, что думает Викарий Христа, если мы - те, кого окормляет человек в белом облачении, - на самом деле не верим, что Иисус воскрес и будет вести Свою Церковь до тех пор, пока не придёт на землю во славе?». Мне не пришлось настаивать на том, чтобы мою позицию приняли. Наоборот, я сразу встретил совершенное согласие и полное единомыслие. Во время встречи в Кастель Гандольфо мой собеседник сказал мне, что ознакомился с первым проектом, который я ему передал, и готов дать интервью в свете своего служения преемника апостолов и ради того, чтобы использовать ещё одну возможность для «кершмы», провозглашения Благой Вести - истины, радикально меняющей ход истории, на которой зиждется наша вера: «Иисус есть Господь; в Нём Одном спасение, ныне, и присно, и во веки веков».
С этой же точки зрения надо воспринимать и оценивать выбор литературной формы, в которой я сначала сомневался (если это хоть как-то важно). Нынешний Папа - человек, охваченный неудержимым апостольским горением; пастырь, которому обычные пути всегда кажутся тесными и который прибегает ко всем мыслимым средствам, чтобы нести людям Благую Весть. По слову Евангелия, он хочет всходить на кровли (где вырос сегодня лес телевизионных антенн) и кричать о том, что есть надежда, что она опирается на мощный фундамент и даруется каждому, кто захочет её принять. Одним словом, и беседу с журналистом Папа оценивает в свете того, что сказал апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (9.22-23).
При таком высоком духовном накале уже нет абстракций - догмат превращается в плоть и кровь, в жизнь. Богослов становится свидетелем и пастырем.
«СВЯЩЕННИК КАРОЛЬ, ПАСТЫРЬ ВСЕГО МИРА»
Именно «керигматической» устремлённости, духу «первого благовествования» и «новой евангелизации» обязаны появлением на свет страницы этой книги. Углубившись в неё, читатель поймёт, почему я не хотел добавлять несущественные комментарии к словам, столь богатым и содержательным, что они как бы обретают способность к полёту. Это та «passion de canvaincere» (страсть убеждения), которая, по Паскалю, должна отличать каждого христианина и которой, несомненно, проникнут до самых глубин «слуга слуг Божиих». Для него очевидно, что Бог Иисуса Христа не только существует, живёт и действует, но - и это самое главное - Он есть Любовь; тогда как Просвещение и рационализм, отравившие даже некоторые богословские течения, видят в Боге бесстрастного Архитектора, то есть преимущественно Разум. Самый главный призыв, который почти выкрикивает Папа, в том числе - с этих страниц, чтобы его услышал каждый человек: «Пойми, кем бы ты ни был, Бог тебя любит! Помни, Евангелие - это послание радости! Не забывай, у тебя есть Отец и каждая жизнь, даже самая ничтожная для людей, имеет вечную и непреходящую ценность для Бога!».
Видный богослов - один из тех немногих, кто ознакомился с текстом ещё в рукописи, говорил мне: «Эта книга - непосредственное, свободное от схем и самоцензуры откровение о религиозном и интеллектуальном мире Иоанна Павла II, а потому - ключ, без которого нельзя понять и истолковать то, чему он учит». Тот же богослов, не колеблясь, утверждал: «Не только современные комментаторы, но и будущие историки, желая понять первый польский понтификат, не смогут обойтись без этих страниц. Написанные в порыве вдохновения, они свидетельствуют о чём-то таком, что малодушный мог бы счесть «импульсивностью» или благородной «неосторожностью», они с необыкновенной выразительностью показывают нам не только разум, но и сердце человека, которому мы обязаны столькими энцикликами, апостольскими посланиями и речами. Всё находит здесь свои корни, а значит, это документ не только для нынешнего дня, но и для истории». Один близкий сотрудник Папы доверительно сообщил мне, что все проповеди и толкования Евангелия для Месс, которые совершает Святой Отец, он от начала до конца готовит сам. Он не только набрасывает тезисы, которые нужно будет развить, он пишет текст полностью, будь то торжественная Литургия в присутствии миллионов людей (или даже миллиардов, если предполагается телевизионная трансляция) или Месса для ограниченного круга в его домашней часовне. Сам он объясняет это тем, что пресуществление хлеба и вина, передача грешнику Христова прощения, разъяснение Слова Божия - первейшая, непреложная и неотъемлемая обязанность всех священников. Точно так же отнёсся он и к ответам на мои вопросы. Поэтому их тоже можно считать проповедью, разъяснением Евангелия, написанным священником Каролем, пастырем всего мира.
Я говорю «тоже» потому, что читатель найдёт на этих страницах особую смесь: личные признания (эпизоды детства и юности на родной земле), размышления и духовные советы, мистические медитации, взгляды в прошлое и будущее, богословские и философские суждения. Таким образом, каждую страницу надо читать внимательно (кто попытается проникнуть под покров простого, доступного языка, обнаружит поразительную глубину); некоторые же места требуют особой сосредоточенности. Исходя из опыта первых читателей, мы можем заверить всех, что усилия окупятся сполна. Время и внимание, отданные этим ответам, принесут обильные плоды.
Позволю себе заметить, помимо прочего, что предельной открытости автора, его необычайно смелым порывам (взгляните на страницы об экуменизме и об эсхатологии, «конечных вопросах») всегда сопутствует предельная верность Преданию. Иоанн Павел II сознаёт, что он - гарант и блюститель католичества перед лицом Христа, ибо «нет другого имени.., которым надлежало бы нам спастись» (Де 4.12); но это не мешает ему раскрыть объятия всем людям. Как известно, в 1982 г. французский писатель и журналист Анри Фроссар опубликовал книгу, запись бесед с нынешним Папой. Заголовком её он сделал призыв, который стал как бы программой понтификата: «Не бойтесь!».
Конечно, никак не умаляя значение и достоинства этой замечательной, превосходно составленной книги, можно заметить, что она появилась, когда Кароль Войтыла только начал своё служение на Престоле Петра. Здесь же читатель найдёт опыт пятнадцатилетнего понтификата, здесь запечатлелось всё то, что произошло за это время в жизни самого Папы, Церкви, мира (а это события переломные: вспомним хотя бы крушение марксизма). Найдёт он и то, что не только осталось неизменным, но и приумножилось (о чём неопровержимо свидетельствуют эти страницы), а именно - способность вырабатывать собственное видение, устремляться в будущее, смотреть вперёд, навстречу третьему тысячелетию христианства, о котором Папа неустанно говорит с воодушевлением и убеждённостью сорокалетнего.
ПЕТРОВО СЛУЖЕНИЕ
В свете этого хотелось бы надеяться, что книга побудит к перемене мнения всех тех, кто - вне Церкви или внутри - позволил себе подозревать «Папу из далёкой страны» в «консервативном, реакционном отношении» к соборным нововведениям. Наоборот, Папа их продолжает, подтверждая промыслительную роль Второго Ватиканского Собора, в заседаниях которого (от первого до последнего) принимал активное и заметное участие молодой в ту пору епископ Кароль Войтыла. Говоря об этом необычном событии - и о том, какие перемены оно повлекло за собой для Церкви, - Иоанн Павел II ни о чём не жалеет. Он откровенно говорит об этом, хотя и не скрывает очевидных проблем и трудностей, порождённых не Собором (здесь он ничуть не колеблется), а его поспешными, если не злонамеренными толкованиями. Однако надо ясно сказать, что чисто религиозная направленность этих страниц ещё раз показывает, как неудачны схемы типа «правые - левые» или «консерваторы - прогрессисты». «Христианское спасение», которому посвящены, может быть, самые захватывающие страницы, не имеет ничего общего с политическим убожеством, присущим многим комментаторам, которые, пусть бессознательно, совершенно не понимают, как глубока способность Церкви к развитию. Системы же мировых идеологий - изменчивых, но всегда ограниченных - ничем не напоминают «апокалиптические» прозрения (в смысле «откровения», «открытия» провиденциального плана), которые пронизывают учение нынешнего Папы и животворят эту книгу. Один близкий советник Папы сказал мне: «Чтобы понять, каков действительно Иоанн Павел II, нужно увидеть его во время молитвы, особенно - в его домашней часовне». Можно ли понять что-то об этом Папе (как, впрочем, и о любом из Пап), если, исключив этот момент, опираться лишь на то, что могут видеть все? Читатель убедится, что во многих местах я не побоялся сыграть роль «оппонента», а может быть и почтительного «провокатора». Это не всегда легко и приятно. Полагаю, однако, что именно в этом - обязанность каждого журналиста, проводящего интервью: не переходя дозволенных границ и памятуя прежде всего о христианской добродетели, которая зовётся самоиронией, или о дистанции, защищающей от слишком серьёзного отношения к себе, он должен, по мере сил, осуществить своего рода «маевтику»1 - что, как известно, свойственно акушеркам.
Впрочем, у меня было ощущение, что мой собеседник ожидал именно этого, а не придворного поддакивания; доказательство тому - живость, ясность и непосредственная искренность ответов. Мне слышался в них иногда доброжелательный упрёк или, может быть, отцовское увещевание. Я признателен и за это - и не только потому, что получил подтверждение великодушной серьёзности, с какой были приняты мои вопросы; Святой Отец признал тем самым, что эти вопросы, постановка этих проблем, хотя и не свойственны ему самому, волнуют многих людей нашей эпохи. Поэтому нужно было, чтобы журналист попытался их сформулировать от имени своих работодателей, то есть - читателей.
Правда, читая некоторые ответы, я испытал чувство, близкое к тому, что духовные учители называют «святой завистью» (той, которая может быть не грехом, а благотворным стимулом). Я убедился, как несоразмерны мы - слабые христиане, озабоченные, по своей посредственности, разными мелкими проблемами, - и нынешний Преемник Петра. Папа, если можно так сказать, вовсе не имеет нужды «верить»; ведь истины веры для него - осязаемая реальность. По слову Паскаля, которого и он склонен цитировать, ему не нужно «держать пари» или «подсчитывать вероятность», чтобы убедиться в объективной истинности «Верую». Христианин Кароль Войтыла, как каждый мистик, каким-то образом чувствует, внутренне переживает, что Иисус Христос, воплотившийся Бог, живёт, действует и наполняет всю вселенную Своей любовью. То, что для нас - проблема, для него - факт, объективно поддающийся проверке. Правда, ему как бывшему преподавателю философии не чужда работа мысли, ищущей «доказательств» христианской истины (напротив, этому посвящены самые насыщенные страницы), но есть и ощущение, что для него все эти доводы - только очевидное подтверждение неопровержимой реальности.
Мне кажется, что в этом смысле Папа поистине проникнут духом Евангелия, что на нём исполняются слова, которые мы читаем у апостола Матфея: «Блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты - Пётр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (16.17-18). За камень, за скалу можно ухватиться в час испытания, сомнения, в той «ночи тёмной», которой подвержена наша, часто такая слабая, вера; это - неколебимое свидетельство евангельской правды, существования иного мира, где каждый получит то, что надлежит, и где каждому будет дана, если только он пожелает, полнота жизни вечной.
Такое служение на благо людей Сам Иисус Христос вверил одному человеку, сделав его Своим Викарием: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк 22 31-32).
Вот оно, служение Преемника Петрова. Несмотря на прошедшие двадцать столетий, он по-прежнему - один из тех, кто «был свидетелем воскресения», он знает, что «тот самый Иисус был взят на небо» (ср. Деян 1. 22), и готов свидетельствовать нам об этом собственной жизнью - словом, но прежде всего делом. Мне кажется, книга эта поддерживает нас, дарует нам уверенность, благоговейно и взволнованно подтверждает «сияние истины» (выражение это Папа повторяет не раз).
На своего первого читателя она оказала благотворное влияние, придав ему уверенность и поощряя к большей цельности. Она побудила его извлечь выводы из предпосылок веры, которая часто бывает скорее теорией, чем практикой повседневной жизни. Не будем же сомневаться, что это благо станет уделом многих, чего и хотел мой необычный собеседник. Он сам - из больничной палаты, куда попал после несчастного случая, - заверил меня, что долю своего страдания посвятил читателям этих страниц, где очень часто повторяются слова «надежда» и «радость». Разве прозвучит слишком риторически, если мы скажем, что и за это благодарны ему?
Витторио Мессори
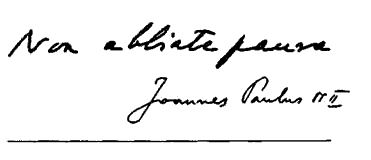
Не бойтесь
Иоанн Павел II